19 августа 2018
Леонид Кроль: «Сейчас идет ремонт души в открытом космосе»
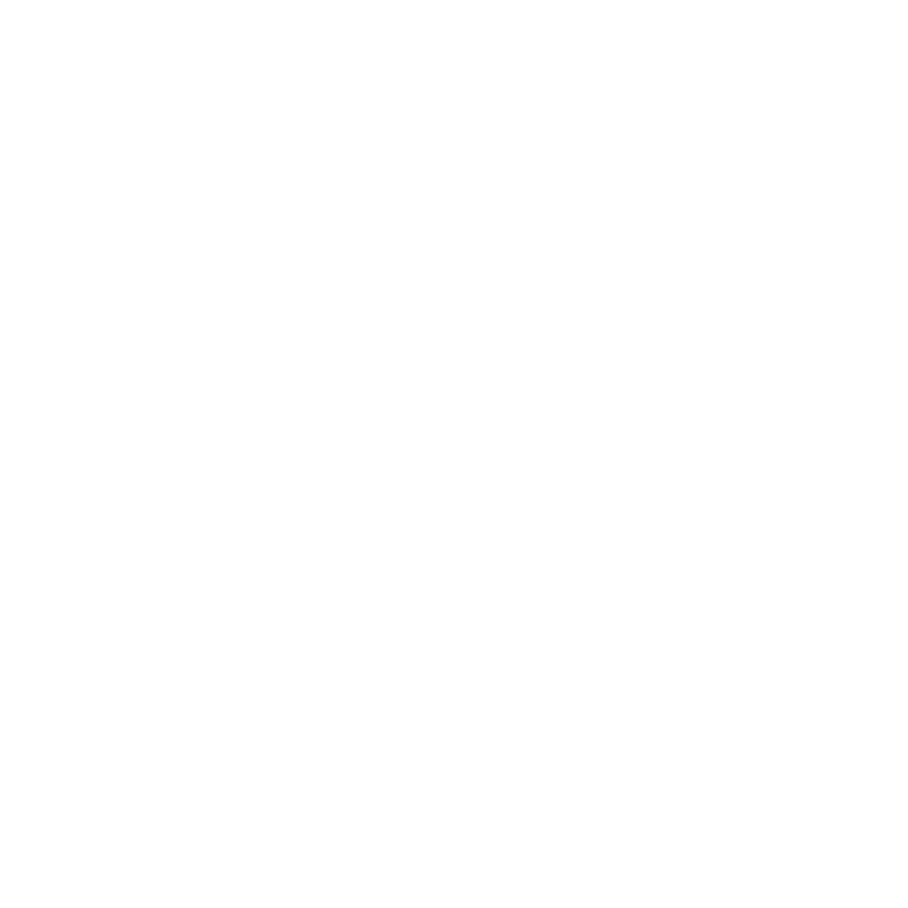
Кроль — один из самых известных психологов России. Впрочем, и Европы тоже. Да и вообще психолог — едва ли не главный персонаж современности: раньше люди думали, как изменить мир, а теперь — как бы это научиться его принимать. Но Кроль на этом фоне резко выделяется: он как раз учит называть все своими именами и докапываться до самых мучительных коллизий вашей внутренней жизни. Я никогда не участвовал в его тренингах, но разговаривал с ним многажды, и можете мне поверить: в людях он разбирается. А в главных болезнях и вывихах нашего времени — тем более: люди все-таки сложней, а тут все уж очень наглядно.
«Кричат от страха перед братской могилой»
— Людям обычно нравится быть хорошими. Плохими они тоже любят быть, но недолго. Все-таки это удовольствие для немногих и не навсегда. Как, по-вашему, в какой точке настроения россиян переменятся и им надоест агрессия? Что для этого может потребоваться?
— Людям сегодня важнее быть выраженными, проявленными, звучащими (еще лучше — кричащими).
— Это не людям, а участникам ток-шоу.
— Но и они люди, и довольно типичные представители. Сегодня на второй план отошло «быть хорошими», потому что вопрос — хорошими для кого? Притом что авторитетов нет, а есть только карающий взгляд из-под век, такие щелки… и отпихивание от корыта.
При советской власти ценностью было не высовываться, «быть себе на уме», «и вашим и нашим», ну и известное «они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». То есть это было хорошо освоенное и уже мирное, малоэкзальтированное, «домашнее лицемерие». Во времена вегетарианские оно всех устраивало, это был исторический вздох облегчения — «думай что хочешь и не высовывайся». За исключением немногих диссидентов, людей выдающейся смелости, ценностью было — «выделяйся умеренно». Страх еще жил, но поджал хвост и вел себя тихо. С ним неосознанно боролись: в моде шестидесятых полагалось быть бретером, вспомним героев Аксенова. Но и бретерство было наполовину — не культурный герой масштаба «все изменить», а так… сад вокруг себя с палисадником для друзей.
— Сегодня, согласитесь, мода на страх уже есть.
— Сегодня страх стал не то чтобы моден, но, конечно, сильнее. Он загнан вглубь, и именно от этого некоторые кричат громче — как в лесу, «чтобы не пропасть поодиночке».
— То есть это, в сущности, истерика?
— Иногда да. Одиозные, карикатурные выпады из Думы — это ведь именно боязнь сгинуть незаметными и не попасть на местный олимп (даже если кому-то он видится и табуреткой детского сада). Изнутри кажется, что это крик величия (извне воспринимается просто как странность для других), но на деле это ужас безымянной похороненности заживо в массово-братской могиле. Прямо-таки проклятие безгласности братской могилы: вообще-то ты герой, но кто ты? — безымянный! Императив нынешнего времени: «Умри за правое дело, но не докучай живым своим именем». Назовем тебя как удобно. Плакатность — вместо подлинности.
— Но извне страха как раз не видно. Он, видимо, очень глубоко, чуть ли не в генах. Извне видна дикая агрессия, какой, кстати, в семидесятые не было…
— Агрессия — это как раз реагирование на страх, отыгрывание его, при этом, чем примитивнее — тем она кажется истинней, тем более матерой и нутряной. «Раз мы так кричим — мы же не боимся». «Крик — это наша соборность». Наверное, банальность скажу — но этологи, специалисты по поведению животных, выделяют три основные биологические реакции (прежде всего при опасности): напасть (агрессия), убежать (сберегающая трусость) и притвориться мертвым. Безгласные, не высовывающиеся — как бы притворяются мертвыми, но чаще встречается более активная реакция — первая, агрессия.
Тем более что она стала безопасной: хоть с дивана витийствуй в интернете, хоть еще где гневно поливай ближних и дальних.
— Но она требует разрядки. Вечно копить ее нельзя.
— Куда денется агрессия? В худшем случае уйдет через драку (войну). Как известно, в Израиле низкий уровень бытовой агрессии, потому что есть настоящие поводы для напряжения. В лучшем — уйдет страх, а с ним — потребность лаять, чтобы не видно было, мала собачка или о-го-го. Если страх (или суррогат опережающей агрессии) не будет нагнетаться «изнутри», из собачьих матюгальников, с помощью стилистики «враг у ворот», — появится стыд. Стыд пока прячется, но выглядывает, его прожить сложнее, чем страх. Но, вероятно, пройти через него придется.
«Склока среди своих»
— Наблюдается некий парадокс, характерный, по-моему, только для России. Вроде агрессия большинства направлена вовне — на прочий мир, в котором их не любят и не понимают, — но и внутри страны сплоченности не наблюдается. Каждый смотрит на каждого со злобой и тайным подозрением, причем в любую погоду. Чем вы объясняете это? Ведь можно бы уже и сплотиться, но как-то особого желания полюбить ближнего я не вижу. И не испытываю.
— Тут нет парадокса, с моей точки зрения. Дефицит доверия, близости образуется невербально, чаще в небольших и сплоченных группах. Как бы среди своих, но своих по интересам, по выбору, а не внутри сбившейся стаи. Есть такой пульсирующий шар вроде песочницы детского сада, где ты нужен мне (какой ты ни есть), а я нужен тебе, и это греет. Вот с этим мы имеем дело в большом социуме, и в нем как раз все довольно мирно. От матрицы «как надо» — рациональной, но во многом искусственной — отошли, но к «тихим чувствам», уважению, дистанции — не дошли. Сейчас разобщены коллективы друзей и как бы единомышленников, склока наблюдается как среди либералов, так и среди государственников. Народ же в целом скорее инертен.
— Притворяется мертвым?
— Можно сказать и так.
— Ясно, что стране понадобится долгая терапия. Но какая? Чем можно снять такие комплексы, такие мрачные привычки, такую подсадку на иглу пропаганды? Ясно, что другая пропаганда не сработает. Нужно что-то принципиально новое, но у немцев в этой ситуации было военное поражение, а мы живем в условиях, когда война невозможна.
— Терапия в принципе известна — это мелкая собственность, свой дом, двор, мастерская, кооператив, вырастание государства снизу (а не растаскивание сверху большими кусками). Это соседи. Не соседи по коммунальной квартире, с дефицитом и смотрящими, с лживым пафосом «деремся, следим, доносим, зато и пьем вместе», а соседи по поселку, деревне с воздухом…
— Да где же взять такую деревню?!
— Я думаю, что сейчас нарастающая плотность городской застройки — метафора роста неживого, нежизнеспособного пространства. Это неизбежно приведет к тому, что плотные, высотные районы потеряют не только престиж, но и смысл. Идея частного, как бы она ни была оболгана, ближе среднему человеку, именно так он сможет отстоять себя перед человеком маленьким, люмпеном, привыкшим полупаразитировать, полувыжидать. Находиться в депрессии и «ждать своего часа».
— Сегодня они дождались.
— Все-таки еще нет. Впереди тихая и негероическая терапия обычного человека, то есть мещанина, со своим тихим, но все более отчетливым, сформулированным для себя и для близких счастьем. По известной максиме «последние станут первыми» — люди двинутся на природу и выживание, а комфорт муравейника уйдет из желанного обихода.
— Когда?
— Конкретных дат не назову, но думаю, это дело ближайшего десятилетия.
Голое платье короля
— Чем вообще может разрядиться ситуация вроде нынешней? Ясно же, что просто рассосаться она не может: или социальный взрыв, или внешняя агрессия. Или все-таки вы видите мирный сценарий, при котором вся эта концентрация ярости внезапно исчезнет, и у страны появятся общие ценности?
— Агрессия часто заменяет скрытую за ней скуку, чувство ненастоящего, обилие имитаций. Чем больше это внутреннее чутье на имитацию, ощущение подделки (а чутье пока не потеряно, хотя именно его забивает телевизор расхожими и анилиново-яркими картинками), тем опаснее кажется остановиться. Дать людям одуматься, опереться на свое мнение. Поэтому угар нагнетается, выглядит как конечная, простая ясность. Навязываются простейшие, банальнейшие разделения: мы и они, патриоты и предатели, шумные (как бы искренние) и тихушники («кто их знает»).
Скука, прикрытая шумом, — это ведь голое платье короля. Все, что дико серьезно, напыщенно до максимального пафоса, — в один миг линяет и спадает. В этом смысле метафора ребенка, который, не зная страха, просто не играет в эти игры завравшихся взрослых, не хочет иметь с ними дела, — это во многом про сегодняшнюю молодежь.
— Она как раз очень разная. Есть гениальное меньшинство и деградирующее большинство.
— Она разная, не то чтобы вся здорова, но у нее неизбежно формируется брезгливость к миру фальшивки и замены. Дети хотят носить джинсы хорошего качества, не жить в границах, очерченных слишком нравственно коррумпированными взрослыми… ну, и еще мировые тенденции с технологическим креативом, как ни смешно, — это ведь тоже фактор? Так ли сегодня легко построить информационную стену, как шестьдесят лет назад?
— Так ведь стены-то не на границах…
— Да, горько, что стены во многом строят люди внутри себя, но качество этих стен, самого материала очевидно убого. Не хочу показаться слишком оптимистичным, но все же и у этой пропаганды есть свои лимиты. Перефразируя по другому поводу сказанное «сумбур вместо музыки», будем полагаться на природную музыкальность хотя бы тех 10%, которые могут и захотят перевернуть этот зарвавшийся громкоговоритель, кричалку для подавления страха.
— Некоторые говорят: хорошо, что в России никогда не будет фашизма, ибо для фашизма нужна абсолютная вера в идею или хотя бы в вождя. В России же любят испытывать эмоции, но не имеют убеждений. Что лучше — все-таки один раз тяжело переболеть или всю жизнь находиться в состоянии полуздоровья?
— Фашизм, рационализм, либерализм, социализм — мне кажется, что это концепты прошлого и в массовом сознании уже не приживутся. Страх силен, он будет давать как шараханье в стороны, так и сбивание в кучи. Никаких господствующих идеологий — ни либеральных, ни патриотических — сегодня нет; думаю, что и прежде они были уделом меньшинства. Господствующей идеологией массового сознания является — «оставьте нас в покое, мы жить хотим», ностальгия по идеализируемому прошлому (очень разному, разношерстному). Агрессия — скорее, разорвать ближнего, чем идти в далекий поход. В далекий поход идут, но все же одиночки и от отчаяния. Да и вообще с идеей плохо. Еще хуже — с верой. Во что бы то ни было. В сущности, рационализм отступил далеко, настало давно предсказанное новое средневековье, одни верят в то, что это сделали «наши», а другие — в то, что виноваты «они»… Среди разбросанных фактов — анархия разных вер, и даже сплотить на почве ненависти трудно: демон разобщения вовсю делает свою работу. Вообще агрессия ведь истощает, изнуряет, и вот эта атмосфера усталого, но крикливого астеника пробивается сквозь весь этот пафос на глиняных ногах.
«Анонимных алкоголиков у нас не любят»
— По вашему опыту, что может радикально изменить человека, заставить его пересмотреть свои убеждения? А ведь через это скоро придется проходить огромному большинству оболваненных россиян, и вряд ли поможет одно только отключение прежней пропаганды или внедрение новой. Нужно что-то иное, но какой природы должен быть этот шок?
— Наверное, среди ряда ответов сразу приходят в голову два. Первый — грустный. После коктейля из агрессии, подозрительности, чувства превосходства, ностальгии по империи, скрытого унижения — придется пройти через болезненное отрезвление. Фактически разгром. Не обязательно физический, но духовный, институциональный, связанный с растерянностью. Мы знаем о жестокости стран-победителей во Второй мировой войне и о временах восстановления Европы и Германии, а также о корневых изменениях идеологии. Хочется верить, что движение возможно вне траектории алкоголизма. Эта траектория общеизвестна: стадия эйфории, с чувством субъективно и временно расширившегося мира, потом это сменяется тоской и дисфорией, абстинентным синдромом, сигналами отравленной печени и временем отказа от иллюзий. А главная иллюзия, от которой приходится отказываться, — это «быть не как все», быть в другом, «лучшем» состоянии. Психологически тут развилка: отвернуться и постараться забыть — или вглядеться, признать поражение, воскресить память и перейти в клуб анонимных алкоголиков (очень малопопулярное и высмеиваемое у нас явление).
Второй путь — это романтические представления о «новом и прогрессивном». Прогрессоры, хорошие инопланетяне, гости из будущего, дети, которые все делают по-другому, мир гаджетов, который улучшает и перековывает людей, забирая себе значительную часть активности, но страхуя от худшего. Такой вариант рабочих муравьев, которые доят тлю, — и всем хорошо, так как это симбиоз старого и нового.
Это надежда на то, что «новое всегда побеждает старое» (нужно только подождать). И в основе — свет разума в союзе с проснувшимся чувством, этакий эмоциональный интеллект, выращивающий эмпатию и через нее — новые отношения. Куда при этом деваются «старые привычки», мало кого волнует. Видимо, уходят на пенсию и тихо ведут ворчливые разговоры на страницах нового фейсбука (в его местном, российском изводе).
Некоторое безумие, но и надежда, состоит в том, что в настоящий момент общество двигается по обоим путям.
— Уже двигается?
— Да. Существует вероятность, что тут возникает не конкуренция за право владеть территорией, но выход в объемный мир. А может, просто эти два пути научатся уживаться… и как бы не замечать друг друга.
— Есть люди, которым зло доставляет наслаждение, которые испытывают восторг при травлях, избиениях, любом насилии и т.д. Это не маньяки, как мы думали раньше, это едва ли не половина, а может, и вовсе большинство. Как выявить это в людях на ранних стадиях и можно ли переориентировать, или это заложено в самой человеческой природе?
— Да, заложено, причем в каждом из нас, вообще в каждом, я это точно знаю. Но не проявляется во многих из нас — не благодаря нашей какой-то особой добродетели, а благодаря многоуровневой системе предохранительных клапанов. В разных людях работают разные клапаны. Для кого-то действуют примитивные — как страх наказания, «не принято». И как только в обществе становится можно — самые примитивные из клапанов отказывают и агрессия вырывается наружу.
Есть другие клапаны, которые социально независимы. Эти надежнее. Мы таких людей сразу видим, нам они кажутся «своими». Это не политкорректно, но это так.
Поэтому надо не выявлять нечто на ранних стадиях, а стараться формировать во многих эти более сложные клапаны. Сформировать их довольно просто и в то же время сложно. Повышенная агрессивность — обратная сторона страха, неуверенности, растерянности, напряжения перед неопределенностью. Вот эта самая неопределенность — развилка. Тут или чувствовать ее как зону роста, либо…
— Либо уничтожать.
— Да. Выход за пределы мучительной дилеммы «жертва или агрессор» происходит за счет качества наблюдателя, рефлексии, формирования фигуры «решателя или спасателя». Помоги другим — поможешь себе. И это мощный тренд, пусть и неявный, который мы наблюдаем. Благотворительность, новые варианты «жить не по лжи», семьи с приемными детьми. Такой ремонт души в открытом космосе, где как будто бы никого рядом нет (в мире замаскированного эгоизма), но кто-то вдруг появляется.
— Возраст старения сильно отодвинулся. Отодвинулось ли понятие «кризис среднего возраста» и существует ли оно вообще?
— Сейчас очень многие из нас в сущности — сами себе начальники. И они себя все время аккуратно повышают — добавляют ответственности, вызовов, компетенций… В какой-то момент вдруг устают от этих повышений. Нужна мне следующая ступенька (переезд в другую страну, третий ребенок, смена рода деятельности…), «еще стараться» — или спокойно жить и работать здесь? И дальше следует с неизбежностью еще один вопрос — а ради чего я, начальник, себя повышаю? Где то, к чему я себя готовлю? И этот вопрос, если он задан настойчиво (а степень настойчивости может определяться ситуацией, вплоть до тяжелой болезни), и этот ответ неизменно сильно меняет человека. В каком возрасте это происходит? Это уже определяется «привычками общества», складом его. Поэтому сейчас, в наше время, этот кризис условной «серединки» может в очень разном возрасте с человеком случиться. Это некая точка сборки, которая бывает абсолютно у всех, кто умер не в «чине молодежи», а сложившимся человеком, не важно, каких именно календарных лет.
— Повальное увлечение психологией и обязательное наличие собственного психоаналитика — теперь уже у среднего класса, а не только у олигархов — это польза или вред?
— Вы обозначили крайности. Увлечение психологией — это что? Чтение гламурных статей, часто упрощенных до однозначности? А второй край — так ли уж у всех свой психоаналитик? Среди психологов и психотерапевтов, так или иначе занимающихся помощью и консультированием, много всяких направлений, в том числе вполне углубленных. Это действительно более массовая услуга, чем десять лет назад. Психоанализ как таковой вряд ли занимает более 2% этой сферы. Он требует большой самоотдачи и немалых ресурсов, далеко не всем дает результат, даже в среднесрочной перспективе. Но в целом, конечно, хорошо, что мы стали «более лучше одеваться», ходить в кино, посещать психологов и думать.
— Очень многие в письмах жалуются на чувство нереализованности, на то, что нечем и незачем жить, — обычный признак исторических тупиков. Смешно же в ответ советовать посещать кружки или заниматься спортом. Что в таких случаях советуете вы? Невозможно выдумать человеку смысл жизни, если он сам его не видит, — или психолог может тут помочь? Адвоката называют купленной совестью, а психолога, вероятно, — нанятым смыслом?
— Экзистенциальный разрез психологии ставит человека перед тайнами и безднами жизни, а не только решает тактические вопросы. Смерть, страх, безразличие, уменьшение энергии или эмпатии, повышенная тревога — все это присутствует в каждой жизни, и стоять с этим лицом к лицу часто становится помогающим и правильным решением. В нынешнюю эпоху человек человеку психолог. Незаурядность и особость — не менее важные пожелания человеку, чем конформизм и умение иногда быть как все. Вот встреча со своей ранимостью, смертностью, ущербностью — как раз задача экзистенциального понимания психологии. Хорошо подстриженный и со вкусом одетый человек не обязательно становится умнее, а вот психолог часто все же лучше помогает чувствовать, думать, принимать решения, уменьшать тревогу — лучше, чем институт подруг и собутыльников.
— Но он и стоит дороже!
— Это смотря сколько пить.
— Людям обычно нравится быть хорошими. Плохими они тоже любят быть, но недолго. Все-таки это удовольствие для немногих и не навсегда. Как, по-вашему, в какой точке настроения россиян переменятся и им надоест агрессия? Что для этого может потребоваться?
— Людям сегодня важнее быть выраженными, проявленными, звучащими (еще лучше — кричащими).
— Это не людям, а участникам ток-шоу.
— Но и они люди, и довольно типичные представители. Сегодня на второй план отошло «быть хорошими», потому что вопрос — хорошими для кого? Притом что авторитетов нет, а есть только карающий взгляд из-под век, такие щелки… и отпихивание от корыта.
При советской власти ценностью было не высовываться, «быть себе на уме», «и вашим и нашим», ну и известное «они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». То есть это было хорошо освоенное и уже мирное, малоэкзальтированное, «домашнее лицемерие». Во времена вегетарианские оно всех устраивало, это был исторический вздох облегчения — «думай что хочешь и не высовывайся». За исключением немногих диссидентов, людей выдающейся смелости, ценностью было — «выделяйся умеренно». Страх еще жил, но поджал хвост и вел себя тихо. С ним неосознанно боролись: в моде шестидесятых полагалось быть бретером, вспомним героев Аксенова. Но и бретерство было наполовину — не культурный герой масштаба «все изменить», а так… сад вокруг себя с палисадником для друзей.
— Сегодня, согласитесь, мода на страх уже есть.
— Сегодня страх стал не то чтобы моден, но, конечно, сильнее. Он загнан вглубь, и именно от этого некоторые кричат громче — как в лесу, «чтобы не пропасть поодиночке».
— То есть это, в сущности, истерика?
— Иногда да. Одиозные, карикатурные выпады из Думы — это ведь именно боязнь сгинуть незаметными и не попасть на местный олимп (даже если кому-то он видится и табуреткой детского сада). Изнутри кажется, что это крик величия (извне воспринимается просто как странность для других), но на деле это ужас безымянной похороненности заживо в массово-братской могиле. Прямо-таки проклятие безгласности братской могилы: вообще-то ты герой, но кто ты? — безымянный! Императив нынешнего времени: «Умри за правое дело, но не докучай живым своим именем». Назовем тебя как удобно. Плакатность — вместо подлинности.
— Но извне страха как раз не видно. Он, видимо, очень глубоко, чуть ли не в генах. Извне видна дикая агрессия, какой, кстати, в семидесятые не было…
— Агрессия — это как раз реагирование на страх, отыгрывание его, при этом, чем примитивнее — тем она кажется истинней, тем более матерой и нутряной. «Раз мы так кричим — мы же не боимся». «Крик — это наша соборность». Наверное, банальность скажу — но этологи, специалисты по поведению животных, выделяют три основные биологические реакции (прежде всего при опасности): напасть (агрессия), убежать (сберегающая трусость) и притвориться мертвым. Безгласные, не высовывающиеся — как бы притворяются мертвыми, но чаще встречается более активная реакция — первая, агрессия.
Тем более что она стала безопасной: хоть с дивана витийствуй в интернете, хоть еще где гневно поливай ближних и дальних.
— Но она требует разрядки. Вечно копить ее нельзя.
— Куда денется агрессия? В худшем случае уйдет через драку (войну). Как известно, в Израиле низкий уровень бытовой агрессии, потому что есть настоящие поводы для напряжения. В лучшем — уйдет страх, а с ним — потребность лаять, чтобы не видно было, мала собачка или о-го-го. Если страх (или суррогат опережающей агрессии) не будет нагнетаться «изнутри», из собачьих матюгальников, с помощью стилистики «враг у ворот», — появится стыд. Стыд пока прячется, но выглядывает, его прожить сложнее, чем страх. Но, вероятно, пройти через него придется.
«Склока среди своих»
— Наблюдается некий парадокс, характерный, по-моему, только для России. Вроде агрессия большинства направлена вовне — на прочий мир, в котором их не любят и не понимают, — но и внутри страны сплоченности не наблюдается. Каждый смотрит на каждого со злобой и тайным подозрением, причем в любую погоду. Чем вы объясняете это? Ведь можно бы уже и сплотиться, но как-то особого желания полюбить ближнего я не вижу. И не испытываю.
— Тут нет парадокса, с моей точки зрения. Дефицит доверия, близости образуется невербально, чаще в небольших и сплоченных группах. Как бы среди своих, но своих по интересам, по выбору, а не внутри сбившейся стаи. Есть такой пульсирующий шар вроде песочницы детского сада, где ты нужен мне (какой ты ни есть), а я нужен тебе, и это греет. Вот с этим мы имеем дело в большом социуме, и в нем как раз все довольно мирно. От матрицы «как надо» — рациональной, но во многом искусственной — отошли, но к «тихим чувствам», уважению, дистанции — не дошли. Сейчас разобщены коллективы друзей и как бы единомышленников, склока наблюдается как среди либералов, так и среди государственников. Народ же в целом скорее инертен.
— Притворяется мертвым?
— Можно сказать и так.
— Ясно, что стране понадобится долгая терапия. Но какая? Чем можно снять такие комплексы, такие мрачные привычки, такую подсадку на иглу пропаганды? Ясно, что другая пропаганда не сработает. Нужно что-то принципиально новое, но у немцев в этой ситуации было военное поражение, а мы живем в условиях, когда война невозможна.
— Терапия в принципе известна — это мелкая собственность, свой дом, двор, мастерская, кооператив, вырастание государства снизу (а не растаскивание сверху большими кусками). Это соседи. Не соседи по коммунальной квартире, с дефицитом и смотрящими, с лживым пафосом «деремся, следим, доносим, зато и пьем вместе», а соседи по поселку, деревне с воздухом…
— Да где же взять такую деревню?!
— Я думаю, что сейчас нарастающая плотность городской застройки — метафора роста неживого, нежизнеспособного пространства. Это неизбежно приведет к тому, что плотные, высотные районы потеряют не только престиж, но и смысл. Идея частного, как бы она ни была оболгана, ближе среднему человеку, именно так он сможет отстоять себя перед человеком маленьким, люмпеном, привыкшим полупаразитировать, полувыжидать. Находиться в депрессии и «ждать своего часа».
— Сегодня они дождались.
— Все-таки еще нет. Впереди тихая и негероическая терапия обычного человека, то есть мещанина, со своим тихим, но все более отчетливым, сформулированным для себя и для близких счастьем. По известной максиме «последние станут первыми» — люди двинутся на природу и выживание, а комфорт муравейника уйдет из желанного обихода.
— Когда?
— Конкретных дат не назову, но думаю, это дело ближайшего десятилетия.
Голое платье короля
— Чем вообще может разрядиться ситуация вроде нынешней? Ясно же, что просто рассосаться она не может: или социальный взрыв, или внешняя агрессия. Или все-таки вы видите мирный сценарий, при котором вся эта концентрация ярости внезапно исчезнет, и у страны появятся общие ценности?
— Агрессия часто заменяет скрытую за ней скуку, чувство ненастоящего, обилие имитаций. Чем больше это внутреннее чутье на имитацию, ощущение подделки (а чутье пока не потеряно, хотя именно его забивает телевизор расхожими и анилиново-яркими картинками), тем опаснее кажется остановиться. Дать людям одуматься, опереться на свое мнение. Поэтому угар нагнетается, выглядит как конечная, простая ясность. Навязываются простейшие, банальнейшие разделения: мы и они, патриоты и предатели, шумные (как бы искренние) и тихушники («кто их знает»).
Скука, прикрытая шумом, — это ведь голое платье короля. Все, что дико серьезно, напыщенно до максимального пафоса, — в один миг линяет и спадает. В этом смысле метафора ребенка, который, не зная страха, просто не играет в эти игры завравшихся взрослых, не хочет иметь с ними дела, — это во многом про сегодняшнюю молодежь.
— Она как раз очень разная. Есть гениальное меньшинство и деградирующее большинство.
— Она разная, не то чтобы вся здорова, но у нее неизбежно формируется брезгливость к миру фальшивки и замены. Дети хотят носить джинсы хорошего качества, не жить в границах, очерченных слишком нравственно коррумпированными взрослыми… ну, и еще мировые тенденции с технологическим креативом, как ни смешно, — это ведь тоже фактор? Так ли сегодня легко построить информационную стену, как шестьдесят лет назад?
— Так ведь стены-то не на границах…
— Да, горько, что стены во многом строят люди внутри себя, но качество этих стен, самого материала очевидно убого. Не хочу показаться слишком оптимистичным, но все же и у этой пропаганды есть свои лимиты. Перефразируя по другому поводу сказанное «сумбур вместо музыки», будем полагаться на природную музыкальность хотя бы тех 10%, которые могут и захотят перевернуть этот зарвавшийся громкоговоритель, кричалку для подавления страха.
— Некоторые говорят: хорошо, что в России никогда не будет фашизма, ибо для фашизма нужна абсолютная вера в идею или хотя бы в вождя. В России же любят испытывать эмоции, но не имеют убеждений. Что лучше — все-таки один раз тяжело переболеть или всю жизнь находиться в состоянии полуздоровья?
— Фашизм, рационализм, либерализм, социализм — мне кажется, что это концепты прошлого и в массовом сознании уже не приживутся. Страх силен, он будет давать как шараханье в стороны, так и сбивание в кучи. Никаких господствующих идеологий — ни либеральных, ни патриотических — сегодня нет; думаю, что и прежде они были уделом меньшинства. Господствующей идеологией массового сознания является — «оставьте нас в покое, мы жить хотим», ностальгия по идеализируемому прошлому (очень разному, разношерстному). Агрессия — скорее, разорвать ближнего, чем идти в далекий поход. В далекий поход идут, но все же одиночки и от отчаяния. Да и вообще с идеей плохо. Еще хуже — с верой. Во что бы то ни было. В сущности, рационализм отступил далеко, настало давно предсказанное новое средневековье, одни верят в то, что это сделали «наши», а другие — в то, что виноваты «они»… Среди разбросанных фактов — анархия разных вер, и даже сплотить на почве ненависти трудно: демон разобщения вовсю делает свою работу. Вообще агрессия ведь истощает, изнуряет, и вот эта атмосфера усталого, но крикливого астеника пробивается сквозь весь этот пафос на глиняных ногах.
«Анонимных алкоголиков у нас не любят»
— По вашему опыту, что может радикально изменить человека, заставить его пересмотреть свои убеждения? А ведь через это скоро придется проходить огромному большинству оболваненных россиян, и вряд ли поможет одно только отключение прежней пропаганды или внедрение новой. Нужно что-то иное, но какой природы должен быть этот шок?
— Наверное, среди ряда ответов сразу приходят в голову два. Первый — грустный. После коктейля из агрессии, подозрительности, чувства превосходства, ностальгии по империи, скрытого унижения — придется пройти через болезненное отрезвление. Фактически разгром. Не обязательно физический, но духовный, институциональный, связанный с растерянностью. Мы знаем о жестокости стран-победителей во Второй мировой войне и о временах восстановления Европы и Германии, а также о корневых изменениях идеологии. Хочется верить, что движение возможно вне траектории алкоголизма. Эта траектория общеизвестна: стадия эйфории, с чувством субъективно и временно расширившегося мира, потом это сменяется тоской и дисфорией, абстинентным синдромом, сигналами отравленной печени и временем отказа от иллюзий. А главная иллюзия, от которой приходится отказываться, — это «быть не как все», быть в другом, «лучшем» состоянии. Психологически тут развилка: отвернуться и постараться забыть — или вглядеться, признать поражение, воскресить память и перейти в клуб анонимных алкоголиков (очень малопопулярное и высмеиваемое у нас явление).
Второй путь — это романтические представления о «новом и прогрессивном». Прогрессоры, хорошие инопланетяне, гости из будущего, дети, которые все делают по-другому, мир гаджетов, который улучшает и перековывает людей, забирая себе значительную часть активности, но страхуя от худшего. Такой вариант рабочих муравьев, которые доят тлю, — и всем хорошо, так как это симбиоз старого и нового.
Это надежда на то, что «новое всегда побеждает старое» (нужно только подождать). И в основе — свет разума в союзе с проснувшимся чувством, этакий эмоциональный интеллект, выращивающий эмпатию и через нее — новые отношения. Куда при этом деваются «старые привычки», мало кого волнует. Видимо, уходят на пенсию и тихо ведут ворчливые разговоры на страницах нового фейсбука (в его местном, российском изводе).
Некоторое безумие, но и надежда, состоит в том, что в настоящий момент общество двигается по обоим путям.
— Уже двигается?
— Да. Существует вероятность, что тут возникает не конкуренция за право владеть территорией, но выход в объемный мир. А может, просто эти два пути научатся уживаться… и как бы не замечать друг друга.
— Есть люди, которым зло доставляет наслаждение, которые испытывают восторг при травлях, избиениях, любом насилии и т.д. Это не маньяки, как мы думали раньше, это едва ли не половина, а может, и вовсе большинство. Как выявить это в людях на ранних стадиях и можно ли переориентировать, или это заложено в самой человеческой природе?
— Да, заложено, причем в каждом из нас, вообще в каждом, я это точно знаю. Но не проявляется во многих из нас — не благодаря нашей какой-то особой добродетели, а благодаря многоуровневой системе предохранительных клапанов. В разных людях работают разные клапаны. Для кого-то действуют примитивные — как страх наказания, «не принято». И как только в обществе становится можно — самые примитивные из клапанов отказывают и агрессия вырывается наружу.
Есть другие клапаны, которые социально независимы. Эти надежнее. Мы таких людей сразу видим, нам они кажутся «своими». Это не политкорректно, но это так.
Поэтому надо не выявлять нечто на ранних стадиях, а стараться формировать во многих эти более сложные клапаны. Сформировать их довольно просто и в то же время сложно. Повышенная агрессивность — обратная сторона страха, неуверенности, растерянности, напряжения перед неопределенностью. Вот эта самая неопределенность — развилка. Тут или чувствовать ее как зону роста, либо…
— Либо уничтожать.
— Да. Выход за пределы мучительной дилеммы «жертва или агрессор» происходит за счет качества наблюдателя, рефлексии, формирования фигуры «решателя или спасателя». Помоги другим — поможешь себе. И это мощный тренд, пусть и неявный, который мы наблюдаем. Благотворительность, новые варианты «жить не по лжи», семьи с приемными детьми. Такой ремонт души в открытом космосе, где как будто бы никого рядом нет (в мире замаскированного эгоизма), но кто-то вдруг появляется.
— Возраст старения сильно отодвинулся. Отодвинулось ли понятие «кризис среднего возраста» и существует ли оно вообще?
— Сейчас очень многие из нас в сущности — сами себе начальники. И они себя все время аккуратно повышают — добавляют ответственности, вызовов, компетенций… В какой-то момент вдруг устают от этих повышений. Нужна мне следующая ступенька (переезд в другую страну, третий ребенок, смена рода деятельности…), «еще стараться» — или спокойно жить и работать здесь? И дальше следует с неизбежностью еще один вопрос — а ради чего я, начальник, себя повышаю? Где то, к чему я себя готовлю? И этот вопрос, если он задан настойчиво (а степень настойчивости может определяться ситуацией, вплоть до тяжелой болезни), и этот ответ неизменно сильно меняет человека. В каком возрасте это происходит? Это уже определяется «привычками общества», складом его. Поэтому сейчас, в наше время, этот кризис условной «серединки» может в очень разном возрасте с человеком случиться. Это некая точка сборки, которая бывает абсолютно у всех, кто умер не в «чине молодежи», а сложившимся человеком, не важно, каких именно календарных лет.
— Повальное увлечение психологией и обязательное наличие собственного психоаналитика — теперь уже у среднего класса, а не только у олигархов — это польза или вред?
— Вы обозначили крайности. Увлечение психологией — это что? Чтение гламурных статей, часто упрощенных до однозначности? А второй край — так ли уж у всех свой психоаналитик? Среди психологов и психотерапевтов, так или иначе занимающихся помощью и консультированием, много всяких направлений, в том числе вполне углубленных. Это действительно более массовая услуга, чем десять лет назад. Психоанализ как таковой вряд ли занимает более 2% этой сферы. Он требует большой самоотдачи и немалых ресурсов, далеко не всем дает результат, даже в среднесрочной перспективе. Но в целом, конечно, хорошо, что мы стали «более лучше одеваться», ходить в кино, посещать психологов и думать.
— Очень многие в письмах жалуются на чувство нереализованности, на то, что нечем и незачем жить, — обычный признак исторических тупиков. Смешно же в ответ советовать посещать кружки или заниматься спортом. Что в таких случаях советуете вы? Невозможно выдумать человеку смысл жизни, если он сам его не видит, — или психолог может тут помочь? Адвоката называют купленной совестью, а психолога, вероятно, — нанятым смыслом?
— Экзистенциальный разрез психологии ставит человека перед тайнами и безднами жизни, а не только решает тактические вопросы. Смерть, страх, безразличие, уменьшение энергии или эмпатии, повышенная тревога — все это присутствует в каждой жизни, и стоять с этим лицом к лицу часто становится помогающим и правильным решением. В нынешнюю эпоху человек человеку психолог. Незаурядность и особость — не менее важные пожелания человеку, чем конформизм и умение иногда быть как все. Вот встреча со своей ранимостью, смертностью, ущербностью — как раз задача экзистенциального понимания психологии. Хорошо подстриженный и со вкусом одетый человек не обязательно становится умнее, а вот психолог часто все же лучше помогает чувствовать, думать, принимать решения, уменьшать тревогу — лучше, чем институт подруг и собутыльников.
— Но он и стоит дороже!
— Это смотря сколько пить.
Оригинал статьи опубликован на novayagazeta.ru
Статья от 19.08.2018
Статья от 19.08.2018

